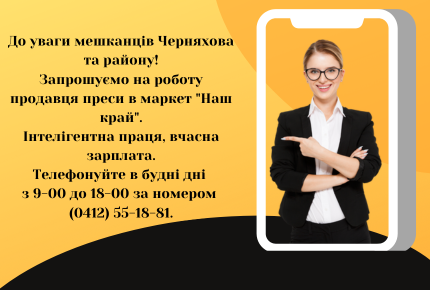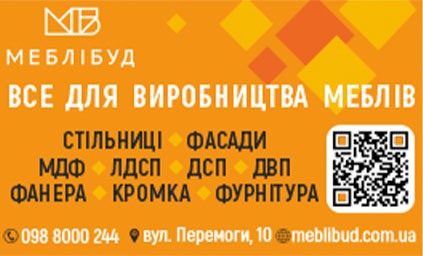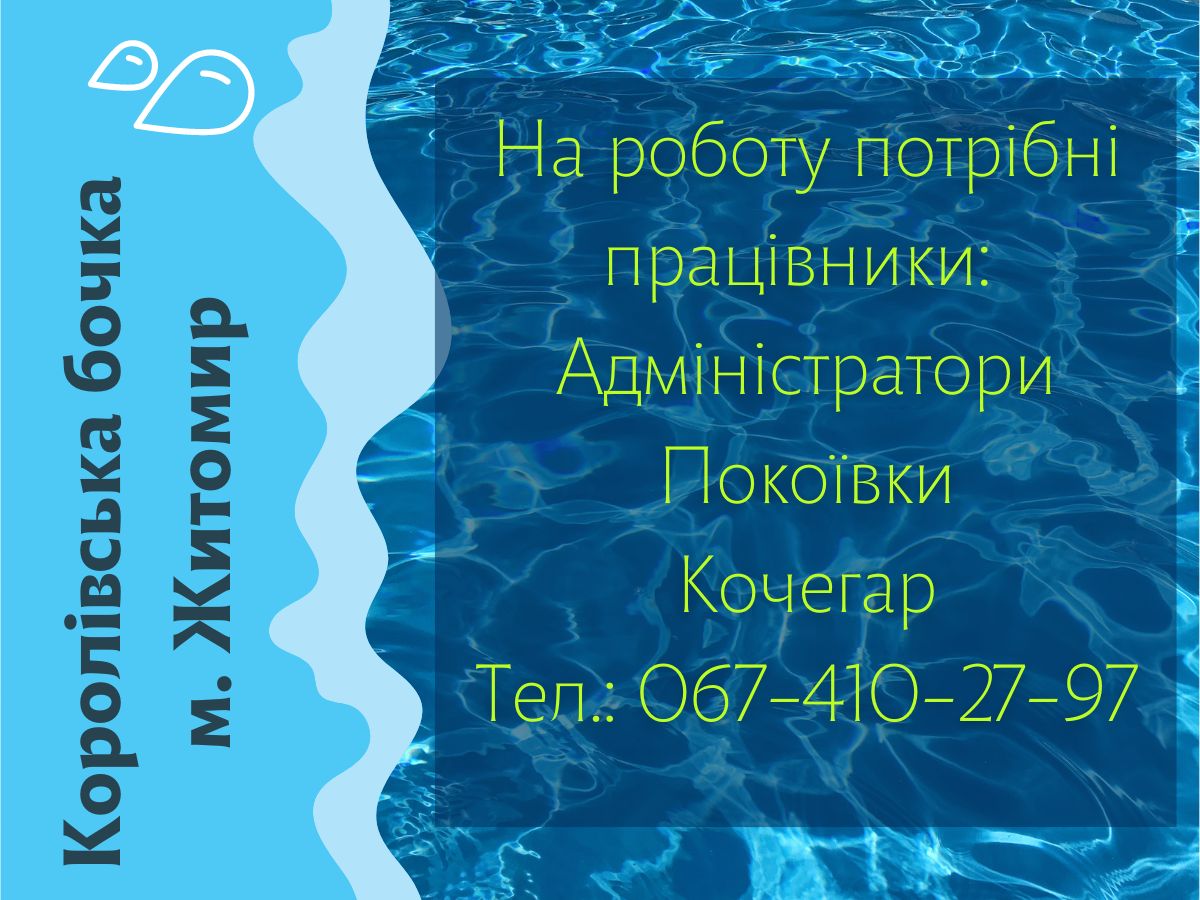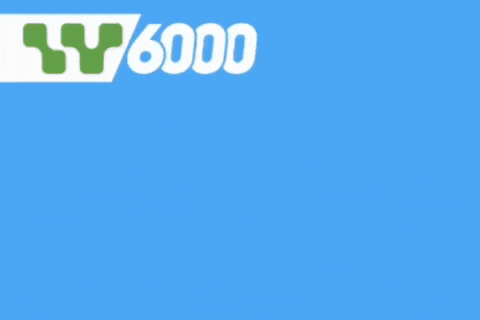Андрею Сербину 27 лет, он анестезиолог Мариупольской больницы №4 в Левобережном районе. 24 февраля, в день полномасштабного военного вторжения, мужчина приехал в свое отделение и покинул его только 21 марта. Первую неделю войны, пока левый берег Мариуполя не был отрезан от города, врачи приезжали на работу.
Об этом пишет Наталья Бирюкова в материале на сайте Свои.
Но в начале марта в операционном корпусе остались два хирурга, два травматолога, два анестезиолога. Андрей был среди них. Именно они сделали десятки операций, оказали помощь сотням мирных жителей Левого берега. Больница №4 и родильный дом были единственными лечебными учреждениями в этой части города. Как врачам удавалось выполнять свой долг так, чтобы выживших было больше, чем погибших – в рассказе Андрея для Свои.
Андрей Сербин до эвакуации из Мариуполя
Бесконечный холод
Мы оставались врачами в изолированной от мира больнице и делали свою работу. Вот и всё. Это не героизм, а обстоятельства. Первый раненый к нам поступил 25 февраля.
Отопления не стало в конце февраля. А 3 марта посыпались стекла. Почти по всему северному фасаду. Уже не было электричества. Плюс стало холодать на улице. Все это привело к тому, что у нас в помещении было не больше 4 градусов тепла.
Никаких обогревателей мы себе не могли позволить, потому что электричество было от дизельного генератора. Солярки было очень мало и ее нужно было экономить. Генератор в больнице был еще до войны, довоенный запас дизельного топлива мы сожгли за два дня. Пока еще функционировали заправки, администрация больницы в первые дни закупила солярку, потом нам три или четыре раза ее привозили военные.
Пациенты, выздоровев, оставались в больнице. Они заправляли генератор, следили за его бесперебойной работой. Но на 21 марта, когда мы уезжали, начмед сказал: “Солярки осталось на 3-4 часа работы генератора”.
На всю больницу было два дуйчика (тепловентилятор, – авт). Они стояли в операционных и их включали только, когда шла операция. Окна в больничных операционных вылетели сразу после первых прилетов, поэтому мы переместились в предоперационные – это помещения более-менее безопасные, которые соответствовали правилу двух стен.
Тем не менее было несколько эпизодов, когда посреди операции прилетало что-то настолько близко, что у нас двери открывались с характерным грохотом
Из-за холода мы надевали всю одежду, которую имели. А сверху – ковидные комбинезоны (до войны здесь лечили ковидных больных). Во-первых, чтобы защитить вещи от крови, рвоты и прочих биологических жидкостей, которыми было заляпано абсолютно все. Во-вторых, в них вроде бы больше сохранялось тепло.
Однако, подолгу оставаясь в операционных, замерзали так, что врачи и младший медицинский персонал переходили в неконтролируемое состояние. Всем было тяжело. Женщины не выдерживали, уходили куда-нибудь, заворачивались в одеяло и сидели, пытаясь согреться. Так было, если, конечно, ситуация в операционной позволяла. Первый раз мы согрелись в Токмаке, 23 марта.
Фото: Евгений Малолетка, АР
На грани голода
Где-то до 2 марта работали еще магазины и можно было с риском для жизни выскочить и схватить с пустых полок АТБ что-то завалявшееся, не имеющее пищевую ценность, вроде чипсов или оливок.
Первого числа мы вышли в короткую вылазку и купили четыре буханки хлеба. Это хлеб мы растянули аж до середины марта. Потом уже хлеба не было.
В больнице был пищеблок с запасами еды. Эту еду делили на отделения и готовили в мультиварках, пока шли операции, включали генератор и был свет. Еда, конечно, была исключительно бюджетной и очень диетической.
К ограниченному запасу еды добавлялась проблема приготовления большого объема пищи. В нашем отделении было всего две мультиварки, а готовить приходилось на 20 человек. Соответственно порции были весьма скромные.
Вода для готовки была из скважины и это был большой плюс. Скважина, насос которой работал на солнечных батареях, была в нескольких километрах от больницы. Раз в 2-3 дня мы грузили в одну из машин какого-нибудь доктора всю имеющуюся тару и ехали за водой по городу, который обстреливался просто постоянно
Эти вылазки не любил никто. Когда приезжали к скважине, а она находилась во дворе частного дома, там всегда были огромные очереди. Фактически, это было одно единственное место, где можно было набрать питьевую воду. Больничных пропускали без очереди.
Люди, которые не рисковали ходить за водой, брали ее в сточном коллекторе, фильтровали, кипятили, но и после этого она пованивала и была с гадким привкусом.
В десятых числах марта мы прооперировали пациента, родственники которого притащили нам ящик куриных шеек в благодарность. Честно говоря, я раньше ничего такого не ел. Но на тот момент подзабытый вкус мяса существенно взбодрил коллектив. Эти шейки варили, тушили, жарили. Никому они, конечно, особо не нравились, но ели все.
В целом, конечно, мы не голодали. Два раза в день ели точно. Но, учитывая холод, работу, стресс, нависающее чувство конечности этих запасов еды и бесконечность этой осады, у нас сформировалось очень трепетное отношение к еде.
Очереди за водой в Мариуполе. Фото: Евгений Малолетка, АР
Больше выживших, чем погибших
В медицине есть понятие “золотой час”, речь идет о том, что пациенту после травмы нужно как можно быстрее оказать помощь. В Мариуполе никто к нам в “золотой час” не поступал.
Были люди, которые с оторванными ногами лежали по несколько дней на улице. Это продолжалось до тех пор, пока их не находили и не отправляли к нам. Были такие кровопотери, что непонятно, каким образом человек выживал после операции.
Точно я не могу казать, но, кажется, после оказания помощи погибал каждый пятый. Для меня это удивительно. Потому что без воды и электричества, без полного штата специалистов, в условиях периодических массовых поступлений, когда пострадавших больше, чем медицинского персонала, выживших людей больше, чем умерших.
Сначала пострадавших привозила скорая помощь. Потом, кажется, 7-8 марта были сильные обстрелы, сообщение с Левым берегом прервалось и после этого раненые поступали самыми разными способами.
Фото:Евгений Малолетка, АР
Пострадавших привозили каким-то гражданским транспортом, много раз мирных привозили военные. Была какая-то бронированная машина, кажется, не военная, маркированная красными медицинскими крестами. Она много кого привезла нам. Местные тянули раненных на дверях, одеялах по земле. У кого были целые ноги, приходили сами.
День, когда поступил всего один раненый, – 20 марта. Тогда же был и один убитый. Доктор Казанцев. Это один из старожилов больницы. Ему было больше 60 лет. Он работал заведующим инфекционным детским отделением. Утром 20 марта доктор с чайником вышел из убежища своего корпуса, чтобы отнести кипяток в убежище соседнего инфекционного корпуса, где находились люди.
Между зданиями 10 метров. И возле корпуса, куда направлялся Анатолий Борисович, был взрыв. Его отбросило назад к своему корпусу. Чайник остался возле воронки. Анатолий Борисович погиб от травмы головного мозга. Мы похоронили его на клумбе между двумя корпусами – в двух метрах от его места работы.
Остальных умерших клали в мешки и выносили во двор. Они лежали под стеной больницы. По правилам, судмедэксперты должны делать заключения, что стало причиной смерти каждого человека. Только после этого их можно хоронить.
Раненых приносили на дверях, руках и коврах.Фото: Евгений Малолетка, АР
Больницы постоянно обстреливаются.Фото: Евгений Малолетка, АР
Помощь детям поднимала моральный дух
За все время было порядка 15 пострадавших детей. Самое страшное – черепно-мозговые травмы. Наша больница не специализировалась на нейротравмах, поэтому у нас не было нейрохирургов.
Первую девочку я хорошо запомнил. Аня. Был взрыв, автомобильное колесо отбросило от машины и ударило девочку по затылку.
Все сразу стали заниматься ребенком. И один из наших молодых травматологов выполнил декомпрессионную трепанацию черепа. Молодой травматолог сделал операцию, которая вообще не входит в его зону профессиональные компетенции. Это точно также, как если бы терапевт удалил аппендицит.
После операции был тяжелый восстановительный период. Пять дней девочка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Практически все аппараты работают от сети. Электричества, естественно, нет. Но у нас было пять аккумуляторных аппаратов. Пока работал генератор, мы их заряжали. Когда разряжался один аппарат, мы быстро переключали девочку на другой и так постоянно. Это абсолютно экстраординарная ситуация.
Потом мы смогли отлучить Аню от респираторной поддержки, она дышала сама. И 18 марта подавать признаки неврологического восстановления. А 21 марта она пришла в сознание и даже могла поддерживать минимальный контакт на уровне да – нет. Мы очень гордились тем, что нам удалось ее спасти.
Когда Аня еще находилась на аппарате ИВЛ, к нам поступил следующий ребенок. 6 лет. У него тоже была травма головы. После операции, он очень хорошо восстановился неврологически. И потом я видел в Мариупольских пабликах его фото с бабушкой. Они остались в городе.
Наша помощь детям, их восстановление после операций в таких условиях – это те эпизоды, которые поднимали нам моральный дух.
К сожалению, было и другое. Много раз привозили мертвых детей. И было еще хуже, когда дети поступали к нам живыми, а мы ничем не могли помочь
Есть понятие “триаж” – медицинская сортировка пациентов. Есть категории пациентов, которым не оказывается помощь: агонирующие, крайне тяжелые, с высокой долей те, которые не переживут оперативного вмешательства. Считается не правильным заниматься ими в первую очередь, поскольку кто-то с тяжелой травмой, но с большими шансами выжить, может не получить медицинскую помощь и умереть. Было трудно принимать такие решение: “Все, этому пациенту мы помощь больше не оказываем”.
Мама, бабушка и годовалый ребенок вышли после обстрелов во двор приготовить еду. Прилетел снаряд. У всех поражение головы. У мамы просто царапины. У бабушки довольно тяжелая травма лицевого черепа, серьезно пострадал глаз. А вот годовалому мальчику осколок попал в голову. Через лобную часть было входное-выходное отверстие. Его привезли еще живым. Содержимое черепа было снаружи. Мать, конечно, отказывалась понимать, что шансов нет. Мы обезболили ребенка. К сожалению, на этом наша помощь закончилась. Через 15 минут после поступления в больницу годовалый ребенок умер.
Был эпизод, когда поступили двое детей – 10 и 16 лет. Насколько я понял, они не были родственниками, но их привезли с одного места с тяжелейшими черепно-мозговыми травмами. Мы не могли им помочь. Лишь обезболили. Положили друг на друга. Укрыли одеялом. И все.
Погибший ребенок в Мариуполе. Фото: Евгений Малолетка, АР
Погибший ребенок в Мариуполе.Фото: Евгений Малолетка, АР
Лекарства добывали ломом
Запас медикаментов в больнице, понятное дело, был. Когда же стала доходить до нас серьезность ситуации и перестали работать аптеки, люди с высшим медицинским образованием собирались в группы, брали с собой что-нибудь железное, вскрывали аптеки, расположенные на территории больницы.
Первыми стали заканчиваться наркотики для обезболивания, были большие проблемы по инфузионным растворам. Не стало крови. И переливание мы делали только тогда, когда понимали, что без крови пациент точно умрет. К 20 марта у нас не оставалось, практически, ничего из медикаментов, чем мы могли бы оказывать помощь.
Информационный вакуум
Об эвакуации не думали, о ней мечтали. Но поскольку 5 – 6 марта пропала мобильная связь, мы были в информационном вакууме: не знали ни про “зеленые коридоры”, ни что вообще происходит.
Плюс у нас регулярно были раненые, которых привозили вот с такой типичной историей: “Мы там слышали, кто-то сказал, что там будет “зеленый коридор”, мы поехали. Попали под обстрел”. И вот, пожалуйста, у кого-то дырка в животе, кому-то руку оторвало. Кого-то убило на месте.
Этот вакуум касается не только нашей больницы, а всего Левого берега.
Числа 16 кто-то ночью поймал связь – одну “палку” Киевстара на четвертом этаже. И с этого момента туда началось паломничество. Все поднимались, высовывали руку в окно, пытались поймать связь, сообщить родственникам, которые уже несколько раз нас похоронили.
И когда у нас появилась связь, исключительно телефонная, мы стали от родственников узнавать более-менее актуальные на тот момент данные, что действительно есть приблизительно безопасные маршруты выезда. Мы задумались об эвакуации.
Выезжать намеревались целенаправленно в Украину. Никто из нас не хотел оставаться работать, жить в “ДНР” или России (7 апреля стало известно, что российские захватчики вывезли на оккупированную территорию Украины персонал и пациентов мариупольской городской больницы №4. Судьба людей – неизвестна – Свои)
Водитель сказал: “Андрюха, выскакивай!” И я понял, для чего
18 марта очень плотно и прицельно обстреляли наш квартал. Через улицу напротив загорелась поликлиника. Она так весело и затейливо горела, что мы два дня смотрели на нее и думали: “А что, если мы загоримся?”
И вот эта мысль, что может не просто попасть, а может начаться пожар, заставила резко консолидировать усилия всех в направлении выезда.
Было несколько неудачных попыток уехать. Неудачных в том плане, что мы не выехали с Левого берега. Сейчас понимаю, что лучше их считать удачными, потому что каждый раз мы возвращались в том же составе, что и уезжали. Не всем так везло.
Главная проблема в том, что “зеленый коридор” начинался на выезде из Мариуполя. До него нужно было добраться. Левобережный район Мариуполя ближе к Новоазовску и стороне так называемой “ДНР”. Нам же нужен был противоположный выезд города, западный, и чтобы к нему проехать, необходимо пересечь Мариуполь.
Типичная попытка эвакуации в Мариуполе с Левого берега выглядела так: люди доезжали до моста, видели баррикады из машин, могли попытаться их объехать. Судя по количеству расстрелянных возле баррикад машин с трупами внутри, для очень многих эвакуационный маршрут заканчивался там
Удачная для нас попытка была 21 марта. Мы построились в колонну из семи машин сотрудников. Накануне знакомый нашего коллеги выехал и сообщил маршрут.
Нужно было по улице Пашковского доехать до Набережной. Упереться в минное заграждение. Перед ним свернуть и дальше ехать “партизанскими тропами” с перескакиванием бордюр, объездом вывороченных бетонных блоков, проездом восточных проходных “Азовстали”, которые разбиты в хламину.
Там дорога шестиполосная. На ней не было ни одного квадратного метра, на котором не лежала бы огромная вывороченная бетонная глыба. Дорога пролегала через “Азовсталь”, по которому лупили без остановок. Буквально.
В одном месте нужно было ехать по трамвайным путям, с них сворачивать, чтобы добраться до моста. Между баррикадой из машин и ограждением моста была щелочка на ширину обычной пассажирской машины даже без зеркал. У кого они складывались, их сложили, остальные ехали как есть. Мы просочились в эту щелочку всей колонной.
Андрей с друзьями в мирном Мариуполе. Из архива Андрея
В одном месте уткнулись в поваленный столб, на котором была линия троллейбусной электропередачи. И вот этот трос, на котором все фиксируется, висел поперек дороги. Проезжая, машина не просто его зацепит, она вырвет что-то у себя на ходу.
Я ехал в первой машине. Мы подъехали, понимаем, что объехать невозможно, и водитель говорит: “Андрюха, выскакивай!” Я понял, для чего. Выскочил, поднял над головой металлический трос и пропустил всю колонну. Бросил трос, быстро добежал до нашей машины. Ехали на небольшой скорости, чтобы я мог заскочить в машину на ходу.
На подъезде к центральным проходным стоял наш танк, а рядом – воронка на ширину двух полос и глубиной до пояса. Машины проехать по дороге не могли. Водители, перескакивая через бордюр, проехали между воронкой и танком. Так мы выскочили на центральные проходные. Там еще один мост. К этому моменту он уже был уничтожен.
Но рядом был еще один, его всегда называли Старым или Горбатым. Честно говоря, я за почти четыре года жизни в Мариуполе ни разу не видел, чтобы кто-то по нему ездил. Думал, на нем можно только стоять с удочкой, поскольку ничего тяжелее телеги по нему проехать не сможет. Но мы проехали.
Отец плачет над погибшим ребенком. Фото: Евгений Малолетка, АР
С этого момента начался относительно безопасный маршрут. И дальше типичная для меня, дважды беженца история: блокпосты, досмотры, общение с приятными людьми с автоматами. На русских блокпостах нас просили раздеться: смотрели, есть ли татуировки и следы ношения оружия.
В нашей колоне была машина, у которой был не полный бак. И мы все точно знали, что будем его буксировать. В 20 километрах до Мангуша закончился бензин. До Токмака мы тянули машину на буксире, но ни у кого и мыслей не было, что не стоит выезжать, если у тебя не полный бак бензина.
В Токмаке была организована доставка горючего. Мы заправились и доехали до Запорожья. 26 марта я был в Днепропетровской области. 30 марта пошел устраиваться на работу врачом.
Мы уехали, а наши пациенты остались
Стал ли я другим? В Мариуполе нужно было работать, спасать, принимать решения, бороться, греться, в конце концов, что-то есть. И я жил, работал, постоянно был в составе операционных бригад и старался ни о чем таком не думать. Другое дело – мысли после Мариуполя.
На следующий день после нашего отъезда был прилет в четвертый этаж больницы, на котором я находился почти все время вместе с другими сотрудниками. От этого взрыва погибли несколько врачей.
Ситуация, что мы уехали, а наши пациенты остались – очень болезненная. У каждого доктора с пациентом устанавливается эмоциональная связь, в процессе лечения он для тебя уже не чужой человек.
Мы уговаривали себя, что сделали все, что могли, особенно, в тех условиях, что сложились: “Еще день – два и мы останемся просто без ничего. Не будет ни шовного материала, ни спирта для обработки. Никаких средств для оказания помощи”. И тем не менее всех нас корежило, что мы оставляем пациентов и уезжаем. Врачи так не делают. Обычно. Но я не могу обвинять себя в том, что мы приняли решение убегать из Мариуполя. Потому что это нормально и правильно. Но какая-то доля сомнения в правильности с этической стороны, есть у каждого, кто со мной выехал.
Слідкуйте за нашими новинами в Телеграм-каналі Субота Онлайн